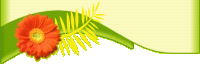Краузе (Калитина) Наталья Петровна (1895 - 1929 гг.)
Воспоминания дочери генерала (продолжение)В конце весны я сама была удивлена, получив, наконец, от комиссии разрешение на выезд, и нужно было быстро собраться, так как я должна с Колюнчиком ехать санитарным поездом. Бунятовы до последней минуты не верили, так быстро я сложилась и уехала, простившись с ними. Милая Клара Тихоновна пришла ко мне в поезд, принеся нам провизию и денег на дорогу. Так простились мы с лучшими из людей, которых я когда-либо встречала в жизни, и двинули с Колей в путь на новые терзания. Отъехав от Ростова 10 верст, нас всех, бывших в санитарном поезде, высадили прямо в поле, сказав, что будут набирать раненых, а мы ехали бы, как пожелаем. Мы двое суток жили в поле, пока коммунисты-мужчины ездили хлопотать, чтобы нам дали тележку. Наконец выхлопотали развалившийся вагон, в котором ехало 30 женщин и 50 детей и несколько мужчин. Место надо было брать с бою и пускать в ход кулаки, что мне было чрезвычайно трудно с Колей на руках, но всё же добыла себе место на грязном полу.
Таким образом до Москвы тащились около трёх недель. Колечка заболел в дороге желудком, заразился от детей, и я привезла его в Москву совсем больного. Хорошо, что там были мои друзья Добрышины, к которым мы тогда явились рваные, грязные и все во вшах. Но они приняли нас, конечно, как родных, отмыли, одели и кормили нас недели две-три.
Я в это время списалась с родителями Андрея. Они мне советовали ехать прямо в Ржев, где живет двоюродная сестра Андрея Н. П. Селюгина, жена доктора, и что они, старики, тоже скоро туда приедут. Мне было очень тяжело ехать к незнакомым людям на неизвестное, но выхода другого не было, и пришлось ехать в Ржев, где мы с Колюней прожили ровно год. Ржев и жизнь в Ржеве вспоминается мне тяжёлым кошмарным сном, и, пожалуй, хуже всего нам было там, и там я надорвала своё здоровье непосильной физической работой.
Моё предчувствие по отношению к старикам Краузе оправдалось, как всегда. Они оказались сухими и бессердечными людьми, и, несмотря на то, что я пошла работать, не пожелали смотреть за Колей, и я не смогла ничего заработать. Ежедневно, ложась спать, я горько плакала, не зная, чем буду кормить Колюшу завтра. Сначала я жила с Колюней в крошечной комнате, полной клопов, потом с большим трудом выхлопотала у большевиков ордер на другую, в симпатичной семье Сахаровых, на берегу Волги. Я часто страшно голодала, иногда абсолютно нечего было есть, хлеба никогда не видела и, когда добывала картошку, то считала счастьем. Котик мой, слава Богу, не знал голода. Я всегда зарабатывала (часто страшными унижениями) для него молоко и варила манную кашку. Иногда я находила работу и шила бельё, научилась плести из верёвок лапти, обменивая их на провизию для Котика. Если же работы не было, то торговка давала мне корзинку с нитками, мылом, луком и т.д., и я с Котиком на руках отправлялась на базар продавать. Иногда приходилось ходить по морозу до самого вечера, и я просто окоченевала, обуви не было, и я в Ржеве ходила в самодельных лаптях. Котика же я обыкновенно закрывала своим пальто, так как у бедного малютки не было ничего тёплого. Продав весь этот хлам, торговка часто за это меня чем-нибудь кормила, а Коле давала бутылку молока. Керосина совсем не было в продаже, его нужно было искать и разыскивать и доставать из-под полы за громадные деньги. По вечерам я сидела с самодельной коптилкой и работать не могла. Или ложилась рано спать, чтобы на следующий день пораньше встать, или в темноте стирала бельё. Воду надо было таскать вёдрами прямо с Волги, что особенно было тяжело мне зимой. Берег очень крутой, и я едва взбиралась до верха с вёдрами и часто их опрокидывали мальчишки с салазками или едущая навстречу телега. И я, обливаясь водой, вся покрывалась льдом. Полоскала бельё тоже в проруби на Волге, и я плакала, так руки коченели, что не было сил терпеть. Часто бабы из жалости ко мне помогали мне, и я удивлялась, как они могут терпеть такую муку. Так протекала моя жизнь изо дня в день в борьбе за существование.
Старики Краузе приехали спустя два месяца, но жили у своих родственников Селюгиных и оказались такими бессердечными людьми, что я даже не ожидала этого, хотя и была раньше против них предубеждена. Своей внучке они покупали решительно всё и питали её великолепно, часто продавая вещи моего мужа. Коле же ни разу не принесли ни одной бутылки молока, и не интересовались, и не спрашивали меня даже, чем я его кормлю. Когда милая мадам Селюгина, которая очень любила Колюшу, приносила ему что-либо, Елена Дмитриевна (мать моего мужа) обыкновенно даже сердилась и была недовольна, вероятно, ревнуя, зачем балуют не внучку, которую она боготворила.
Жизнь в Ржеве для меня была тяжела ещё потому, что у меня абсолютно никого там не было, не только близкого человека, а даже симпатичного человека, с кем я могла бы поделиться, и я была совершенно одинока. Одно время я уже хотела пробираться на Кубань в станицу к Лизе, но она мне писала, что там голод и она с сыном Павликом и его няней собираются ехать в Петроград и что нам нужно там соединиться. Я списалась с доктором Озеровым (которого вырастил и воспитал брат моего дедушки Павел Викторович Степанов вместе с его двумя сёстрами), он писал мне, чтобы мы с Колей приезжали и остановились у него в доме.
Я только и жила надеждой поскорее выбраться из Ржева. К счастью, Ф. Г. Копылов (зять Краузе, муж Ксении, сестры Андрея) получил назначение из Москвы в бывшее Царское Село и приехал с теплушкой, чтобы перевезти своё семейство, и мы с Котиком поехали тоже. Всё семейство во время дороги, особенно Ф. Г., вели себя препротивно. Я принуждена была на всех таскать воду, свалилась с вёдрами с лестницы и придавила себе на руке палец. Бабушка на всех готовила, а Ксения всю дорогу лежала и ругалась с мужем. Тащились до Луги несколько дней. Летом все они должны были жить в Луге, и бабушка взяла Котика к себе до нахождения мною службы. Я горько плакала, расставаясь первый раз в своей жизни с моей крошкой, оставляя его людям, которых я не любила. Но ничего другого не могла сделать, так как не имела ни денег, ни крова, ни службы.
Приехав в Петроград к доктору Озерову, которого мы с детства называли дядей Сашей, я нашла уже Лизу, Павлушу и няню Стешу. Так мы радостно встретились с Лизой, но меня очень мучило, что мы целым таким семейством стесняли Озеровых, которых было меньше, чем нас. Я пошла в гости к сестре своей подруги Наденьки (Дъяковой) Даниловой, которая жила у своих родителей с сыном. Она меня мило встретила, дала мне своё платье, обувь и уговорила меня жить у них, пока я не устроюсь. Я поселилась у них, Озеровы обиделись и называли меня «гордой», хотя в душе, я думаю, чувствовали, что я права.
Целыми днями с утра до вечера бегала я, ища службы или работы. Часто бывало так, что я находила работу и получала требования, с которыми необходимо было идти на биржу труда. Там, простояв в очереди несколько часов, его у меня отбирали и отдавали другой, говоря, что места даются в порядке очереди. Я страдала невыносимо в разлуке с моим малюткой, живя из милости. Так продолжалось до конца сентября 1922 года.
Один старичок, отец моей приятельницы, которую я похоронила в Екатеринодаре, устроил меня на завод, где сам служил юрисконсультом. Требование на биржу труда послано было от завода с огромной взяткой, и я получила место на пивоваренном заводе на Выборгской стороне (Полюстровская набережная, дом № 7). Назывался «Новая Бавария». Господь сжалился, наконец, над нами.
Завод ещё тогда принадлежал трем частным владельцам - арендаторам. Платили хорошо, и служила приличная публика, нарядные барышни, которые с удивлением и ужасом сначала смотрели на мой вид. (Обувь, подаренная мне Надей, оказалась мала, и я явилась в лаптях.) Но, к счастью, мой начальник И. А. Моисеенко оказался хорошим человеком и отнёсся ко мне очень сердечно. Сейчас же выписал мне в кредит воз дров и дал аванс, на который мы с Лизой наняли себе рабочую квартиру поблизости от моего завода (две комнаты с кухней) и перебрались туда, перевезя с чердака тёти Лялиной квартиры оставленный ею хлам, который служил нам мебелью. Сначала мы не знали, как будем жить в этом логовище, называемом квартирой, но потом решили, что другой не найти и нужно как-нибудь терпеть, и терпела я там три года. Со стен обои висели клочьями в несколько слоёв, окошки, то есть стёкла, были склеены из малюсеньких кусочков и плохо растворялись, потолок протекал во время дождя, и нужно было подставлять все тазы и чашки. Постепенно мы всё как возможно вычистили и привели в порядок.
Я после первой получки взяла Колюнчика домой, и Лиза с ним сидела дома, исполняя роль матери, а я - отца. Иногда я приходила домой поздно, особенно в расчётные дни, когда нужно было выдавать жалованье служащим и рабочим, мы, служащие расчётного отделения, оставались на заводе до поздней ночи, и голова распухала от цифр. Сначала мне было очень трудно служить, так как я даже на счётах не умела как следует считать, и вообще никогда не служила, и бродила как упавшая с луны. Я очень благодарна своему начальнику Моисеенко, который учил меня всему, начиная с азбуки, и потом выработал из меня хорошую работницу. Потом уже я несла несколько должностей и со всем отлично справлялась. По утрам я исполняла роль табельщицы завода. Обходила 13 отделений завода, проверяла рабочих и к 12 часам должна была дать директору сводку о количестве рабочих и их болезни, переводе, уходе и т.д. Это я любила, так как знала буквально всех рабочих даже по именам, много было бывших офицеров, которых я потом всячески оберегала от коммунистов, когда наш завод стал казённым.
Меня все любили и относились ко мне хорошо и с уважением. Я была счастлива, что работаю, что мы сыты, не голодаем, а главное, что теперь ни от кого не зависим. Жизнь была бешеная, дороговизна росла с каждым днём, и курс червонца менялся 2 - 3 раза в день. Я обыкновенно после получки сразу с мешками денег летела за провизией. Иначе завтра уже всё было дороже, и деньги таяли, и нам не хватило бы до следующей получки. Такая животная жизнь из-за куска хлеба, конечно, нас не удовлетворяла, да ещё, к тому же, мы ничего не знали о судьбе отца и наших мужей и боялись, что их уже нет в живых. Единственным моим утешением и счастьем был Колюнчик, которого я боготворила. Он был живой, как ртуть, шалун и непоседа, но замечательно хорошенький. Вечером мои подруги всегда любовались на него, когда он спал. Чёрные реснички покрывали полщеки. Лизе трудно было за ним смотреть, и я одно время нанимала няньку, а Лиза изучала стенографию и пишущую машинку.
Нам посоветовали помолиться в двух церквях - в храме Вознесения у иконы Иоанна Воина просить его получить вести от наших родных, а потом идти в Никольский собор помолиться у иконы Николая Чудотворца. Мы с Лизой совершили это паломничество, и не прошло две-три недели, как действительно получили известие от них. Папочка, оказывается, писал дяде Куропаткину и спрашивал о нас; тот написал своей невестке, а она сообщила Лизе. Я помню, мы так радовались, что чуть с ума не сошли. Я помню, что Лизочка, не дожидаясь моего прихода со службы, прилетела ко мне туда, чтобы сообщить радостную весть. Мы стали жить в волнении, ожидая писем от них. Дядя сообщил нам их адрес, и мы им сейчас же написали в Германию. Через несколько дней, наконец, получили долгожданные письма от них, и так были счастливы.Первое письмо пришло от отца, которое нас ошеломило! Случилось то, чего мы не только не ждали, не предполагали, а даже в уме не имели. Мой папочка, обожаемый мною с детства, прожив с мамой 33 года, и посвящая всегда себя и всё, что имел, нам, в наше отсутствие спустя 2 года после смерти мамочки женился, будучи в Болгарии, на вдове, моей ровеснице. Во мне сразу же во всём существе моём, в сердце и душе что-то оборвалось, рухнуло, как будто бы случилось что-то бесконечно тяжёлое, непоправимое. Я не могу и не умею описать того чувства. С этим известием умерли у нас все надежды и наши мечты о соединении. Мы так мечтали соединиться, чтобы лелеять и оберегать старость отца. Оказалось же, что мы ему совсем и не нужны. Невольно родились в голове мысли, что же ожидать от наших мужей, когда папочка женился?
Через несколько дней получили мы письма от наших мужей, и первые письма Андрея были ласковые и отражали его прежнего Андрея. Он тоже хотел и ждал момента нашей встречи. Первое время приходили письма часто, потом я стала их получать реже, они были по-прежнему милые, но он уже писал о невозможности нашего с ним свидания, так как он боится ехать в Россию, а выписать нас к себе не имеет возможности.Папочка как-то в своём письме сообщил, что его супруга полюбила молодого полковника, и Лиза, смеясь, сказала: «Уж не полюбила ли она твоего Андрея?» Но у меня даже в голове не было мысли, что это может случиться после того, когда мы, наконец, после стольких лет мучений и их поисков нашли их, когда так хотели соединиться и когда, казалось, Господь, наконец, сжалился над нами. Да, наконец, Андрей мой, прежний любимый Андрей, честный, прямой и так любивший меня в нашей совместной жизни, неужели он мог изменить нам с Колей, именно теперь, когда мы нашли друг друга? Я так верила ему, как себе, и уверена была, что если бы это было на самом деле, то он сам сейчас же написал бы. Но, оказывается, случилось то, что не было у меня в уме; самое невероятное оказалось правдой, поразившей меня как громом, убившей меня и мои лучшие чувства.
Я сходила с ума от горя, когда узнала всю горькую и тяжёлую правду от чужих людей, родителей Веры, и если бы не Коля, то, наверное, покончила бы с собой. Я так была уверена в любви Андрея, что не могла никогда предположить, что Андрей, который всегда любил меня больше, чем я его, может мне изменить, а потом ещё вдобавок скрывать это от меня и не иметь гражданского мужества сказать мне правду. Весь мир померк для меня с тех пор, подорвались силы, пропал интерес к жизни и рухнули сразу все надежды. Только теперь, потеряв Андрея, я поняла, кем он для меня был и что я его глубоко любила, а также страстно хотела, чтобы у моей крошки был бы отец. С этого дня половина моего существа умерла, и я стала жить уже только своей другой половиной - матерью, живя только своим Котиком и для него, и с этого времени моя любовь материнская ещё усилилась, превратилась в обожание. Я думаю, что таких матерей немного, и моё болезненное чувство к моему ребёнку могут понять только те матери, у которых, как и у меня, всё в жизни потеряно, кроме ребёнка. Я рассказала обо всём матери Андрея, и та просила его написать правду. На это Андрей прислал матери целую исповедь, описывая, как безумно его полюбила Марья Ивановна (жена моего отца), очень красивая женщина, он тоже ответил ей увлечением, а когда был поднят вопрос о нашем приезде и высланы нам визы, она поставила вопрос ребром Андрею, чтобы он выбирал её или семью. Андрей сказал ей, что останется со своей семьёй, после чего она перерезала себе на руках вены и отравилась порошком против астмы. Я не знаю, насколько это было сильно, быть может, она только попугала, чтобы этим держать потом Андрея в руках - я не знаю. Подробности этой истории мне рассказывала потом моя подруга Вера, приехавшая из Германии. Андрей написал матери, что он страдает, что поступил так подло с нами, молил мать выпросить у меня прощения, уверял, что он не любил Марию Ивановну. Но у меня все чувства прежние умерли и к Андрею, и к отцу. Они для меня больше перестали существовать, и я поставила на них с этого времени крест, и никогда им больше не писала. В душе же я не могла забыть никогда ни одной минуты, не зная покоя и не переставая тревожить свои раны. Всё, кроме Котика, меня не интересовало, я опустилась, перестала заниматься собой и жила я как-то с этого времени машинально.
Зимой 1923 года в ноябре уехала Лиза к своему мужу в Болгарию. Мне горько было расставаться и оставаться одной. Я почувствовала, что я никому, решительно никому на свете не нужна и не дорога и что остались мы с Колюнчиком одни во всём мире. Пришлось Котика водить по утрам перед службой в советский детский приют, в четыре часа моя крошка приходил один и оставался до моего прихода или у хозяина нашего дома, простого рабочего, или у соседей - тоже рабочих. К счастью, и те, и другие были добрые люди, но всё же я всегда на службе волновалась, пришёл ли Коля домой. Ему тогда ещё не было четырёх лет.
В приюте его заведующая любила, но дети были кошмарные и их заставляли воспитывать в коммунистическом духе. Колю научили ужасным песням и стихам. Например: «Мы пойдём к буржуям в гости, поломаем им все кости. Во, и боле ничего». Это я вспомнила потому, что по приезде в Париж Коля, запев эту песню, привёл всех в ужас.
6 декабря на Колины именины приехала бабушка, привезла Коле лошадку и на следующий день увезла Колю к себе. С этого времени, не знаю, или из жалости к нам из-за поступка Андрея, или потому, что я служила, она переменила своё отношение ко мне к лучшему и больше стала любить Колюнечку и увезла его в Царское Село, не захотела его мне отдавать, пока я не найду няньку. Я очень скучала, но долго не могла найти няньку. Половину своего жалованья я отдавала на Колю, а сама жила, едва-едва питаясь. Получала я уже в два раза меньше, чем раньше, так как арендаторы бежали за границу и завод забрало большевистское правительство в свои руки.
Всё начальство высшее посадили по тюрьмам, остальных всех служащих уволили, заменив своими. Моего начальника оставили, и он не позволил меня сократить, и, таким образом, нас, старых служащих, осталось всего несколько человек. Мы потихоньку собирали деньги для нашего бывшего начальства и посылали им всё, что нужно в тюрьме. Коммунисты велели мне немедленно составить список рабочих - бывших офицеров. Я, подвергаясь риску быть за это уволенной, скрыла половину и сейчас же всех потихоньку об этом предупредила, а также попросила некоторых мастеров, заведующих отделениями, которые ко мне хорошо относились, не сокращать нескольких рабочих, что они исполнили.
Каждую субботу я ездила в Царское, и только жила этими встречами с Котиком, он тоже всегда мне был трогательно рад и всегда ждал меня с нетерпением. В остальные дни я не жила, а только работала. Я сильно нервничала и, тоскуя по Котику, с этого времени начала курить. Иногда даже в дни расчётов, когда мы долго оставались на службе, начальник и мои сослуживцы напаивали меня пивом, мастера присылали для меня портер, И. А. и другая молодёжь покупали закуски, и мы устраивали ужин. Иногда мальчишки подливали спирт в пиво, и я пьянела так, что потом И. А. провожал меня домой. У меня было такое чувство, что хотелось забыться, уйти от жизни, и с этого времени я поняла, что можно пить с горя.
В этот период было моё увлечение Алферовым, нашим рабочим, бывшим офицером. Он был дивный музыкант, играл на многих инструментах и приглашал меня на свои концерты. Он был женат второй раз, имел от первой жены двух детей, но меня ни его жизнь, ни он как-то не интересовали. Я любила в нём только его дивные глаза, от которых не могла оторваться, и наша с ним любовь была странная и происходила во взглядах. Его так же непонятно тянуло всюду ко мне, как и меня к нему, и он тоже всегда искал глазами мои глаза. Он говорил мне, что не любит жену и что, если я поеду за границу, постарается поехать за мной.
Найдя няньку, маленькую 16-летнюю девочку Настю, которая была ласкова к Коле и исполняла все мои приказания, я взяла Колю и была счастлива, что он наконец со мной, и потом я чувствовала, что если б Коля остался ещё у бабушки, я бы пала по наклонной плоскости, так как сердечная боль не переставала меня мучить и просила забвения, всё равно каким путём достигнутого. Ты, Колюнчик, спас меня от многого дурного и заставил вовремя опомниться. В это время тебе было уже четыре года, мой крошка.
Я жила только тобой и для тебя, как вдруг 14 октября 1924 года я заболела, поднялся страшный жар и заболела адски нога в левом голеностопном суставе. Пришла комиссия и дала предписание ложиться даром в госпиталь, но место нужно было искать самим. Мой милый начальник Ив. Аф. послал троих моих сослуживцев по всем госпиталям, и через несколько дней они меня устроили в Георгиевскую общину, которая у большевиков называлась им. Карла Маркса. Мои сослуживцы Васенька Иванов и мой кузен Леонид Куропаткин (которого я устроила к нам на завод) достали у доктора экипаж, вынесли меня на руках и повезли. Я оставила своего бедного малютку одного на подростка няньку, отправляясь в больницу.
Боли были невероятные, температура ежедневно поднималась, доходя почти до 40 градусов, и меня доктора сразу убили, что эта болезнь очень упорная и требует долгого лечения. С каждым днём мне становилось всё хуже, и наконец нога (ступня) встала поперёк. Были нечеловеческие боли, когда её выпрямляли и наложили гипс выше колена. Казалось, что мне надели пуды тяжести, и я от боли не знала, куда деть ногу, и страдала невероятно физически. А тут ещё доктора стали искать причину моей болезни и говорили между собой, не последствие ли это триппера, и стали искать гонококки. Конечно, ничего не нашли, но, пока я узнала о результате, прошло много времени, и я с ума сходила от горя и, наверно, за это время постарела на много лет.
Колюнчика нянька приводила каждый приём, но я всегда боялась, как они доберутся домой, так как до дома было далеко. Однажды Наденька приехала меня навестить и взяла Колю к себе в гости, к своему сыну, и с этого времени держала Колю у себя четыре месяца, пока я ещё лежала в больнице, и была его ангелом-хранителем. Это чудная женщина, которая была так же добра к Котику и смотрела за ним так же, как и за своим Павликом. Она решила с Леонидом Куропаткиным отказать няньке, чтобы сохранить мне деньги, а сам Леонид перебрался ко мне в лачугу из комнаты в чудной Лизиной квартире, чтобы оберегать мой хлам. Настя пришла ко мне в слезах, что её рассчитали, но после этого всё же приходила меня навещать.
Все мои сослуживцы, начальники и их жёны были ко мне очень добры и навещали меня часто, принося всегда мне массу съедобного. Мои подруги, Леночка и Маруся, буквально откармливали меня, принося с собой целые кули масла, яиц, колбасы, сыра, сала и т.д. Я думаю, что этим только и спасли меня, так как дядя Саня, который считается дивным хирургом, осмотрев мою ногу после снятия гипса, был удивлён и сказал мне, что я счастливо ещё отделалась так быстро. После снятия гипса начали постепенно ногу лечить, но я ещё с месяц лежала, потом стала ходить на костылях. В госпитале я много читала, если приносили мне книги. За мою болезнь я узнала, что у меня есть друзья, и от этого на душе было легче. Алферов после своей операции тоже часто приходил ко мне на приём. По большевистскому декрету можно болеть только два месяца; хотя платят жалованье полностью шесть месяцев, но через два месяца вычёркивают из списка служащих. Мой начальник оставлял меня четыре месяца, но больше не смог, и начальство на моё место посадило пятерых коммунистов.
В это время Вера написала отцу и Андрею о моей тяжёлой болезни, о том, что Коля находится у её сестры, и спросила их, собираются ли они заботиться хотя бы о Коле, так как я могу умереть. Тогда они стали мне писать, что сделают всё, чтобы спасти меня и вытащить меня за границу. Сообщили мне, что виза уже получена и послана из министерства в Москву, и послали мне немного денег. Когда я вышла из госпиталя, я месяц лечилась ещё, ходила на костылях, потом с палкой. Леонид продолжал жить у меня, чтобы выполнять всю тяжёлую домашнюю работу, и очень трогал меня своим отношением ко мне и Коле, с которым всегда с любовью занимался, делая самодельные игрушки, и между ними, колоссальным мужчиной и моей крошкой, была трогательная дружба.
Я начала усиленно хлопотать об отъезде. Место было потеряно, найти другое было почти невозможно. Главная комиссия нашла у меня туберкулёз лёгких, туберкулёз кости и признала меня инвалидом. Я должна была получить инвалидную карточку и получать пенсию, как инвалид второй группы. От Андрея приходили ежедневно огромные письма, где он молил о прощении, уверяя меня, что теперь он будет искупать свою вину и всю жизнь посвятит нам с Колей. Папочка писал тоже, чтобы я непременно ехала, что он меня пошлёт на курорт лечиться. Я решила всё простить для Коли, чтобы у него был отец, и поехать к Андрею. Я знала, что я больная и стала страшная и что уже любви никакой не может быть после всего, но решила, что мы будем растить своего Колюнчика, и что мне легче будет нести тяжесть жизни, разделяя её с Андреем.
Я целыми днями и лечилась, и хлопотала, бегая (едва двигаясь с палкой) из учреждения в учреждение. Во время моих хлопот Колюша заболел корью. Приехал доктор, Наденькин поклонник Морев, и уговорил меня отдать Котика будто бы в чудную детскую больницу, где ему будет лучше, чем дома, так как я одна (Леонид в это время уезжал хоронить нашего дядю Куропаткина в деревню), и сама ещё больная, и мне придётся оставлять Колюшу одного, уходя за лекарством, за доктором и т.д. Я сделала глупость, отвезя Котика, и сердце моё раздиралось от ужаса и жалости, когда я отвезла его в больницу и должна была с ним расстаться. Хотела взять его обратно, но страшно было простудить. Я не знала покоя ни днём, ни ночью. Утром я сразу летела на Каменный остров узнавать о здоровье Котика (к ужасу моему, меня к нему не пустили ни разу за всё время его пребывания там). Я возила ему фрукты и игрушки, и ему почти ничего не передавали. Однажды сообщили, что Коля здоров и что я могу его взять домой. Я была счастлива невыразимо, что моё счастье, мой ненаглядный мальчик здоров и что я его снова вижу. Я его укутала и везла на извозчике домой. Но когда я его привезла и смерила температуру, у него оказался жар, и на следующий день заболело ухо, и жар поднялся до 40 градусов.
Была пасхальная суббота. Я попросила соседку посидеть с Колей и сама, не зная, что с ним делать, объездила всех ушных докторов, но застала дома только одного, и тот не пожелал ко мне ехать в такую даль. Я рыдала громко на улице до самого дома от ужаса, что я ничего не сделала для спасения своей крошки, и, проведя ночь, полную ужаса и страха, опять бросила его на соседей и поехала в Военно-медицинскую академию, где я умоляла доктора прийти. Когда он осмотрел Колю, то дал письмо к первому доктору, тот пришёл и моего бедного малютку колол в позвоночник, так как брал на исследование спинной мозг. Коля извивался от боли, и я с двумя мужчинами едва его удержала. Этот доктор дал письмо в Военно-медицинскую академию к заведующему, умоляя принять своего маленького пациента, у которого менингит и мать которого сошла с ума от горя. Да, я действительно была тогда как сумасшедшая и потеряла голову. Колю велели обложить подушками во время перевоза и приняли с тем условием, что я сама буду за ним ухаживать, и сразу же с меня взяли подписку, что я претензий никаких в случае смерти после операции иметь не буду. Я была в невыразимом горе. Все мои личные переживания показались мне пустяками по сравнению с этим кошмаром.
Профессор Воячек, осмотрев Котика, сказал, что вечером будет операция, потом вечером отложил до утра, потом до завтра и т.д. Я жила всё время в неизвестности. Коля страдал, кричал, плакал и говорил: «Мамочка, я с ума схожу от боли», чем раздирал мне душу. Я устала невероятно от страха за Колю и физически от бессонных ночей (полтора месяца я провела все ночи рядом с Колей на стуле), Леонид вызвал телеграммой бабушку, чтобы мне помочь, но она даже не предложила. Ежедневно Котика осматривали и профессор, и масса докторов. Делали ему компрессы, перевязывали всю голову и пускали капли в уши и нос. Кричал и стонал от болей крошка невыразимо и успокаивался только под рассказы моих сказок, которые я шептала ему на ухо всю ночь. Ничего не хотел кушать и превратился в скелет. Днём я должна была его бросать на два-три часа, так как ездила домой кипятить молоко и что-либо приготовить ему, так как в госпитале давалась грубая военная пища, которой нельзя было его кормить. Леонид, хотя жил ещё у меня, но в этот период у нас как-то произошёл разлад: он сердился, что я хочу уезжать за границу, так как всегда уговаривал и упрашивал меня выйти за него замуж, уверяя меня, что очень любит Колю.Наконец Господь сжалился над Колюней. От страшных болей у него голова скривилась и склонилась набок в такой степени, что его, бедного, мучили и снимали для медицинского журнала. Наконец медленно Колюня стал поправляться, и мы приехали к себе на квартиру, оба совсем слабые. Колюню велели усиленно питать, а я все почти свои сбережения потратила за Колину болезнь и боялась, вдруг нас не выпустят за границу. Но неожиданно для меня я получила разрешение на выезд. Верно, за все испытания я, наконец, получила эту радость.
Я опять взяла няню Настю на время хлопот с отъездом. На три дня пришлось самой ехать в Москву за французской визой. Там, конечно, остановилась у Лялечки Доброшиной. Надежда Ивановна уже была у Гогочки в Африке. Мои подруги в моё отсутствие ежедневно приезжали ко мне в трущобу смотреть за Колей. Я, приехав из Москвы, быстро распродала свой хлам и уложилась. Я горевала, что придётся занимать денег на дорогу у дяди Саши Озерова, которые они хотя любезно мне предлагали. Но меня тронули мои сослуживцы. Они собрали мне денег на дорогу, вызвали к себе на завод, и Иван Афанасьевич, сказав милую речь, вручил мне деньги. Я была очень тронута таким отношением моих сослуживцев, с которыми уже семь месяцев не работала вместе. Здесь такого отношения среди эмигрантов не встретишь, и я иногда очень грущу, что здесь нет таких людей, как там. Вечером, накануне отъезда, мы с Колюней перебрались к Озеровым, от которых ближе было до пристани. Ко мне пришли проститься все мои друзья и подруги, которые не смогли нас проводить на пристань. Рано утром 11 июня 1925 года мы с Колей, наконец, погрузились на пароход и на следующий день только выехали.
| Пятница 27.06.2025 06:38 | Приветствую Вас Гость RSS |

   |
| Воспоминания дочери генерала (2) » |